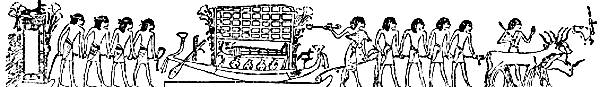
Происхождение XI и XII династий оказало обычное в Египте влияние на религию: на первое место выдвигается их бог-покровитель, фиванский Амон, о котором до тех пор ничего не было слышно. Каково было первоначальное значение его, для нас безразлично; несомненно, что он в период своего господства имеет характер солнечного божества и был сопоставлен с древним Ра в форме «Амон-Ра, царь богов». Египетские богословы толковали его имя, как «сокровенный», и в этом нельзя не видеть нового успеха их религии. Другой симптом существенного прогресса в религиозных представлениях можно усмотреть в том месте, какое заняло теперь верховное илиопольское божество. Мы уже говорили, что с V илиопольской династии по всему Египту распространился культ Ра, божества света и солнца, а вместе с ним и заупокойные тексты, первоначально принятые царями для своих пирамид и сопоставляющие учение о боге Ра с представлениями осирисова цикла. Характер этого древнейшего литературного памятника еще груб: и в представлениях о богах, и в загробных чаяниях все сводится к материальному продовольствию покойного и избавлению его от демонов и чудовищ при помощи магических формул. Начиная с VII династии, 7 представления о загробной жизни демократизируются — эти тексты уже начертываются на деревянных гробах простых смертных, причем появляются рядом с «пирамидными» формулами и новые. Одни из них облегчают покойному путь по загробной воде и суше («Книга о двух путях») и посвящают его путем магических формул в тайны небесной географии, являющейся прототипом земной и имеющей свои Илиополь, Буто, Абидос, Нил и Океан; в других — он получает чрез магические формулы средства «не впасть в сеть» демонов, избавиться от опасности «хождения перевернутым вниз головой», затем возможность появляться на земле, «выходить днем», приняв по желанию вид цветка, птицы, бога Пта и т. п. (это учение греки ошибочно смешали с индийским о переселении душ). На каждый случай существовала особая формула («Главы о превращениях»). Чтобы обмануть и напугать демонов, можно было выдавать себя, благодаря формулам, за любого бога, даже за верховного. Одна из таких формул, открывавших доступ в иной мир, весьма интересна в богословском отношении; она приводится на гробах XII династии в следующем виде (впоследствии XVII глава Книги Мертвых):
«Я — Атум, будучи единым. Я — Ра при его первом восходе. Я — великий, создавший себя сам, создавший имя свое — владыка эннеады (или: «все имена которого образуют эннеаду» — вар. богов). Нет ему равного среди богов. Я — вчера, я знаю завтрашний день... Я — феникс великий, что в Илиополе, исследуя существующее. Я — Мин в его выходах... Я достигаю этой земли прославленных, вхожу в священные врата. Вы, стоящие, предо мной, протяните ваши руки — я сделался одним из вас».
Египтянин-язычник не мог яснее выразить монотеистической идеи. Его верховный бог, «единый», создавший себя сам, свидетель и виновник мироздания, несравним с прочими богами, которые являются лишь его отдельными проявлениями, как имена или члены тела. Как мы видели, подобная же работа богословской мысли происходила и при других храмах, напр., уже в эпоху Древнего царства, в Мемфисе, где жреческая премудрость, выраженная здесь в запутанных и мало вразумительных формах, переплетающая богословские умозрения с повествовательными и диалогическими вставками, все-таки оказывается, благодаря приведенному памятнику, более способной к отвлеченному мышлению, чем это было принято думать на основании официального повторения старых магических и мифологических текстов. Правда, и здесь мифы занимают видное место, но они приводятся для подтверждения «основной идеи текста: Пта — единый, всепоглощающий бог, соединяющий в себе и Атума илиопольского, и цикл Осириса. Он — мысль, возникшая в сердце и теле и проявляющаяся в слове, письме и искусстве. Он — бог творения, архитектор вселенной, ибо слова бога имеют действенное значение и творят богов, людей и вселенную. Он же блюститель и нравственного порядка да земле. Все эти и подобные соображения объясняются не только желанием возвысить местных богов, но и несомненным стремлением богословской мысли подняться над мифическим и магическим балластом и над политеистической путаницей. Если еще пирамиды могли сказать, что «имя-рек овладевает своими землями, как царь богов» (гл. 222), то этот шаг к монотеизму облегчила монархическая психология и солнечный характер илиопольской системы. Последняя со своей эннеадой обусловила представление, выраженное в XVII главе Книги Мертвых, и повлияла на упрощение пантеона в других храмах. Однако, египтяне не могли, достигнув этого прогресса в религиозном сознании, отбросить всего балласта суеверий. Уже в том же тексте о единстве бога Ра мы читаем дальше заклинания, немногим лучшие тех, которые нам известны из пирамид:
«О Ра в своем яйце! Сияющий в своем диске, блистающий на своем горизонте, пламенем, который озаряет обе земли лучами своими. Освободи (имя-рек) от того бога таинственного, который там, которого формы сокровенны, веки которого, как коромысло весов в день тот отчета. Освободи меня от этих стражей прохода. Да не упадут на меня их ножи, да не ввиду я в их котлы, ибо я знаю их имена, ибо я шествую над землею вместе с Ра и Осирисом... О Атум в своем дворце, царь среди всех богов! Защити меня от бога, который живет павшими, которого лицо песье, а кожа — человеческая, который сидит у огненного озера, ест тени, проглатывает сердца. О могучий глава обеих земель, которому дан венец радости в Ираклеополе! Освободи меня от бога, овладевающего душами, пожирающего тлень, живущего гнилью во мраке, которого боятся все, находящиеся в беде. О Хепра в своем корабле, тело которого — две эннеады! Освободи меня от присутствующих на суде, которым вседержитель дал власть быть палачами врагов его, которым даны мечи, из-под стражи которых нет выхода. Да не паду я от меча вашего, да не сяду я в вашей темнице, да не взойду я на эшафот ваш, да не упаду я в ваш колодезь»...
Таким образом, и здесь чудовища, хотя их роль несколько иная — они являются палачами неоправданных на загробном суде. Здесь уже мы имеем набросок той «психостасии», или «взвешивания», учение о котором получило такое распространение в Новом царстве и в котором главная роль принадлежит Осирису. Этот бог теперь окончательно приурочен к Абидосу, в котором развилось особое богословское течение. Здесь справлялись уже известные нам мистерии. Помещали здесь и гробницу Осириса, признав за нее могилу царя первой династии Хента (который в манефоновских списках значится под именем Уэнефия, что близко к эпитету Осириса «Уннофр»).

Теперь все люди по смерти делались Осирисами «правогласными», т. е. правильно произносящими магические формулы против загробных опасностей, а следовательно победоносными против врагов, оправданными на суде. Все теперь стремились лечь на абидосском кладбище у его бога, или, в случае невозможности, совершить сюда по Нилу посмертное путешествие и оставить по себе поминальную доску, а то и целую гробницу. Так, командированный Аменемхетом II в Абидос, Хентемсенти молится, «закрепив свое имя на месте, где находится Осирис Хентиементиу, к которому все прибегают в надежде на благодеяние в числе спутников владыки жизни»: «да буду я вкушать мою часть и выходить днем, да насладится дух мой обрядами, милостью сердца к моей гробнице и моей плите. Я не сделал ничего дурного, и бог может быть милостив ко мне на суде, когда я буду там»... Но зачем покойнику заупокойные дары, если он на попечении верховного бога, и сам к тому же сделался Осирисом? К чему магическое правогласие при возможности быть оправданным на суде? Египетская религия запуталась в противоречиях, и это не замедлило принести свои плоды. Среднее царство было эпохой, когда материальное благосостояние сообщает культуре «светский характер, делает ее менее зависимой от храмов и жрецов. И вот, мы видим некоторое пробуждение скептицизма относительно вопросов загробного мира. В дошедших до нас застольных песнях, которые пелись во время заупокойных пиров, мы находим совершенно еретические мотивы, несмотря даже на то, что эти песни возводились к известным мудрецам древности, напр., «песнь, находящаяся в (погребальном) храме царя Иниотефа, помещенная перед певцом на арфе»:
«Повелел благой царь прекрасную судьбу: исчезают тела и преходят, другие идут им на смену, со времени предков. Боги (т. е. дари), бывшие до нас, покоятся в своих пирамидах, равно как и мумии, и духи погребены в своих гробницах. От строителей домов не осталось даже места. Что с ними сталось? Слышал я слова Имхотепа и Хардидифа, изречения которых у всех на устах, а что до их мест — стены их разрушены, этих мест нет, их как не бывало. Никто не приходит из них, чтобы рассказать о них, поведать об их пребывании, чтобы укрепить наше сердце, пока вы (т. е. слушатели) не приблизитесь к месту, куда они ушли. Будь здрав сердцем, чтобы заставить свое сердце забыть об этом; пусть будет для тебя наилучшим следовать своему сердцу, пока ты жив. Возлагай мирру на голову свою, одеяние на тебе да будет из виссона, умащайся дивными, истинными мазями богов. Будь весел, не дай твоему сердцу поникнуть, следуй его влечению и твоему благу; устрой свои дела на земле, согласно велению своего сердца, и не сокрушайся, пока не наступит день причитания (по тебе). Не слушает тот, чье сердце не бьется (Осирис), жалоб, а слезы никого не спасают из гроба. Итак, празднуй, не унывай, ибо нельзя брать своего достояния с собою, и никто из ушедших еще не вернулся».
Девиз этой песни: «да ямы и пием: утрие бо умрем», а тон ее удивительно напоминает слова Сабиту к Гильгамешу и вторую главу Премудростей Соломоновых. Они — общечеловечны, и потому не укладываются в рамки традиционных представлений. Здесь скептицизм ничем не прикрыт, не пощажены даже почтенные имена древности. Но в песне, по крайней мере, настроение жизнерадостно. В другом же дошедшем до нас удивительном памятнике мы имеем доказательство, что египтяне были способны и на отчаянный пессимизм в связи с этим скептицизмом. В одном из берлинских папирусов несчастный, которому надоело жить, больной, покинутый, друзьями и родными неудачник хочет покончить с собой. Дух боится этого и уговаривает его развлечься. Во время долгих препирательств, несчастный, воспитанный в официальной религии, беспокоится только о том, кто позаботится о его погребении, просит душу не бояться смерти, как таковой, ибо за гробом нет ничего ужасного: это единственное место, где даже несчастный может найти покой — ведь «Тот судит его, умиротворитель богов, Хонс защищает его, писец правдивый, Ра слушает его». «И будет хорошо на том свете: он направит ее туда, как человек, лежащий в своей пирамиде, у гроба которой стоял родственник; ей не будет жарко, она не будет голодна. Будь милостив, дух мой, и, брат мой, будь моим погребателем, который будет приносить заупокойные дары и стоять у носилок погребения». Дух отвечает горькой иронией: если его так тянет на тот свет, то пусть сам туда и отправляется, а его оставит в покое. Что же касается до погребения и заупокойных даров, то об этом не стоит беспокоиться; ведь, и у тех, которые строили из гранита и оставили прекрасные произведения искусств, жертвенники так же пусты, как и у тех, кто умирает на берегу без родных, кому поставили конец волна и зной и с которыми беседуют береговые рыбы. «Послушайся меня — хорошо для человека слушаться, проводи приятно время, забудь заботы!» Вероятно, в подкрепление своих слов, дух приводит два рассказа, для нас мало вразумительные — о бедняке, обрабатывающем свой участок и потерявшем семью, съеденную крокодилами, и не предавшемся отчаянию, и о нищем.
В ответ на это несчастный «отверзает свои уста и отвечает духу» четырьмя стихотворениями, оплакивающими его злой жребий и восхваляющими смерть:
«Мое имя смрадно более, чем птичий помет днем, когда знойно небо.
Мое имя смрадно более, чем рыбная корзина в день ловли, когда знойно небо»
Мое имя смрадно более, чем крокодилы, более, чем сидение с крокодилами.
Мое имя смрадно более, чем имя жены, сказавшей ложь своему мужу.
Мое имя смрадно более, чем имя мятежного города, повернувшего тыл.
Я говорю: «Есть ли кто-либо ныне?» Братья дурны, друвья нынче не любят.
Я говорю: «Есть ли кто-либо ныне?» Сердца злы, каждый грабит ближнего.
Человек с ласковым взором убог, добряком везде пренебрегают.
Сердца злы. Человек, на которого надеешься, бессердечен.
Нет справедливых. Земля — пример злодеев.
Я подавлен несчастием, нет у меня верного друга.
Злодей поражает землю, и нет этому конца.
Смерть стоит сегодня передо мной, как выздоровление перед больным,
как выход после болезни,
как благовоние мирры,
как сидение под парусом в ветряную погоду,
как запах цветов лотоса,
как сидение на берегу в попойке,
как путешествие под дождем,
как возвращение домой на военном корабле,
как желание снова увидать свой дом
после многолетнего пребывания в плену.
Кто находится «там» (т. е. на том свете), употребляется живому богу, карающему за грехи того, кто их делает.
Кто находится «там», будет стоять на корабле Солнца и давать отборное на храмы.
Кто находится «там», будет премудрым, для которого нет препятствий и который молится Ра, когда он говорит».
Эти речи убеждают наконец духа. Он склоняется на доводы, и папирус заканчивается его кратким ответом: «ты достигнешь Запада, твое тело предадут земле, я сойду к тебе, когда ты будешь лежать, и мы будем иметь общее место упокоения».
Многое в этом удивительном произведении для нас непонятно: иначе и не может быть, так как оно стоит совершенно особняком в египетской религиозной литературе и является случайным отголоском тех душевных движений мыслящих людей блестящей эпохи Среднего царства, какие не шли по руслу официального миросозерцания и искали собственных путей. Неизвестный для нас мыслитель изобразил здесь душевную борьбу современника над величайшими общечеловеческими проблемами бытия. Он представил его таким, каким рисует влагаемая в его уста скорбная песнь. Он — доброжелателен, ласков, но слишком беспомощен в борьбе с жизнью и жестокой современностью и даже не имеет доступа к религиозному утешению. А в богов он верит — хочет хотя по смерти непосредственного общения с ними, верит в правосудие, боится остаться без заупокойного культа и поминовения. Он не понимает господства зла и удручен несоответствием идеалов с действительностью. Между тем, устами его собственной души изрекаются мысли, несогласные с официальной религией — заупокойный культ бессмыслен, пирамиды, гробницы и жертвенники не достигают цели: поэтому — «ешь, пей, веселись». Но неудачник в жизни не поддается этим искушениям; его все-таки тянет из грешного мира к богам, и ему удается доводами о преимуществе иного мира заставить умолкнуть смущающие голоса. Таким образом, несмотря на свободное отношение к традиционным верованиям и на странную тему беседы с духом, который может при жизни покидать своего носителя, а по смерти справлять его культ, общий тон произведения может быть признан ортодоксальным — в конце концов традиционные верования торжествуют над сомнениями. Но существование последних все-таки констатируется, и это делает данный памятник одним: из интереснейших в мировой литературе. Его по справедливости сравнивают с Книгой Иова и с вавилонским текстом о несчастном праведнике. Конечно, в художественном отношении он ниже, хотя все-таки обладает достоинствами стиля и изобилует красивыми образами и удачными уподоблениями. Заключительные речи несчастного построены в виде строф со стихами, имеющими общее начало. Эта особенность египетского стихосложения, не говорящего много нашему эстетическому чувству, будет неоднократно встречаться и потом в поэтических произведениях. Точно также проведен в этих речах и параллелизм членов, свойственный как египетской, так и семитической поэзии. Интересно, что в этих стихотворных речах все так связано с египетской природой и бытом; они переносят нас в обстановку того времени и сообщают памятнику прелесть. Высоки и моральные идеи памятника: земная жизнь — вдоль печали, правда только на небе, у благих и премудрых богов, вблизи их - счастье и блаженство.
Гардинер считает этот памятник образцом египетской философии; он говорит, что его появление обусловлено такими же запросами египетской мысли, какие у греков в свое время вызвали Платонова Федона. Он должен дать ответ на вопрос о ценности жизни. Подобным же образом другие, современные Среднему царству произведения египетской письменности, с некоторым правом причисляемые к философским, приближаются к диалогам Платона и пытаются разрешить другие проблемы, волновавшие общество. Из этих произведений, надо признаться, довольно скучных, самое главное — рассуждения; фабула представляется лишь литературной рамкой. Иногда она даже совсем отсутствует. Так, до нас дошли произведения на политико-социальные темы. Одно из них, также проникнутое пессимизмом, и по форме несколько напоминающее беседу с душой, в сохранившемся в Британском музее отрывке содержит беседу мыслителя со своим сердцем. Этой беседе предшествует наивное вступление с литературным исповеданием автора:
«Собрание слов, выбор изречений, избранные мысли отменного сердца, составлены илиопольским жрецом Хахеперра-сенбом, именуемым Онху.
Он говорит: «О, если бы у меня были неведомые мысли, необычные изречения, выраженные новыми словами, раньше не бывшими в ходу, чуждыми повторений, изречения не старой речи, принадлежащие предкам. Я извлекаю все, что во мне... ибо повторяемые изречения, уже сказанные, сказаны. Я сказал это согласно тому, что видел, начиная от первого поколения до грядущих потом, которые подобны прошедшим. О, если бы я знал то, чего не знают другие, что не было повторяемо: я бы сказал это, и ответило бы мне мое сердце. Я изложил бы ему мои страдания, я избавился бы от тяготы, что на моей спине.
Я размышляю о происходящем, о положении дел на земле. Происходит перемена. Юдин год тяжелее другого. Страна в расстройстве. Правда выброшена вон, неправда — в зале совета. Попраны предначертания богов, плач повсюду, номы и города в скорби... Тяжело молчать. Другое сердце не выдержало бы. Храброе сердце в печальных обстоятельствах — друг своего хозяина. О, если бы у меня было сердце, умеющее терпеть! Я бы положился на него и избавился от скорби».
Он сказал своему сердцу: «приди, приди, мое сердце! Я буду говорить тебе, а ты отвечай на мои изречения ж объясни мне то, что происходит на земле... Ведь неприятности случаются сегодня и не проходят завтра... Каждый день встают, с сердца не сбрасывают тяжести — сегодня то же положение, что было и вчера... Лица жестоки; нет достаточно мудрого, чтобы уразуметь это; нет достаточно гневного, чтобы возвысить голос. Встают рано, чтобы терпеть каждый день. Бесконечна и тяжела моя скорбь. Несчастному не удается освободиться от сильного. Тяжело молчать, опасно говорить невежде: критика вызывает вражду, сердце не внимает правде, не терпит ответа на речь»...
В дальнейшем, конечно, шло перечисление всевозможных бед и непорядков, которыми страдала современность и которые унаследованы от смутной переходной эпохи. Возможно также, что как эти, так и другие подобные произведения возникли в эту переходную эпоху, когда общественный строй и культура были в упадке, а безопасности угрожали и внутренние настроения, и внешние враги. Такие эпохи всегда бывают благоприятны для работы политической мысли и для развития политико-социальной литературы, для появления пророчеств и откровений. И в Египте мы находим подобного рода произведения, напр., дошедшее до нас в поздней копии в одном из Папирусов Гос. Эрмитажа:
«Это случилось, когда величество царь Верхнего и Нижнего Египта Снофру был царем-благодетелем во всей земле. Однажды к нему явились вестники из Сильсилиса, чтобы держать совет. Они уже ушли после совета, сообразно ежедневному предписанию, как его величество сказал казначею, бывшему около него: «ступай, верни ко мне вестников из Сильсилиса, которые ушли и уже находятся далеко: пусть они немедленно явятся на совет». Они были остановлены и приведены тотчас».
«Люди чужой страны будут пить из реки Египта... Эта страна будет разграблена... Возьмутся за оружие ужаса, в стране будут мятежи... Все хорошее улетит. Страна погибнет, как ей предопределено... Будет разрушено все находящееся... Полевые плоды будут малы, а меры зерна — велики, будут мерить еще при прозябании. Солнце... будет светить всего час, не заметят наступления полудня. Не будут измерять тени... Страна в несчастии. Я сделаю нижнее верхним... Бедный будет собирать сокровища, вельможи сделаются ничтожными... Явится царь с юга — Амени имя его. Он родится от женщины из Нубии; он родится внутри Нехена. Он примет верхне-египетскую корону, он возложит на себя нижне-египетскую корону. Он соединит обе короны и примирит любовью Гора и Сетха... Люди во время «сына знатного человека» будут радоваться и увековечат имя его во все века, ибо они удалены от бедствия. Злоумыслители опустят свои лица из страха перед ним. Азиаты падут от меча его, ливийцы — перед его пламенем... бунтовщики — пред его силой. Змея урея, что на челе его, смирит пред ним мятежников. Выстроят «Стену Князя», недопускающую в Египет азиатов, которые будут просить воды, чтобы напоить свои стада. Правда снова займет подобающее ей место, а ложь будет изгнана. Будет радоваться этому всякий входящий, находящийся в свите царя. Мудрый будет возливать за меня воду, увидав, что наступило сказанное мною»...
Перед нами — перенесенное в глубокую древность пророчество, конечно ех eventu, о какой-то последующей эпохе Египта. При дворе популярного царя Снофру, с именем которого соединялось представление о древнейшем периоде традиционного уклада египетской действительности, изрекаются предсказания о грядущих бедствиях внешнего и внутреннего порядка и указывается, что вновь вернет стране благосостояние и могущество обетованный царь Амени. Является большой соблазн видеть в этом своеобразном Мессии, как это делает Эд. Мейер, Аменемхета I, основателя XII дин., которая после продолжительного периода смут вернула Египту могущество и возвела его на небывалую степень процветания. Трудно сказать, представляет ли данный памятник продукт придворной лести, поднесенной явившемуся обетованному царю, т. е. нечто вроде Вергилиевых произведений, или мы имеем в нем искреннее творчество усталого от неурядиц египетского грамотея; во всяком случае, оно является интересным образцом политических писаний, подобных которому дошло до нас от Египта несколько и из которых видно, что образованный египтянин вовсе не был уж так безучастен к судьбам своей родины, как это принято ожидать от подданного «деспотического» фараона.
Подобного же рода памятник хотели видеть даже в одном большом лейденском папирусе, также представляющем копию времен XIX дин. с произведения, относящегося по языку к эпохе Среднего царства. Текст, трудный сам по себе, сохранился в крайне печальном виде, и это делает понятным то обстоятельство, что египтологи различно толковали его и до сих пор не могут окончательно определить его значение. Ланге считал его такими же пророчествами, как и предшествующий текст, — и здесь говорится о печальной действительности и ожидаемом избавлении. Гардинер, напечатавший полное издание памятника, напротив, не видит в нем пророчеств, так как все фразы редактированы в настоящем, а не в будущем времени, и полагает, что дело идет о вразумлениях мудреца неумелому царю, повергшему своими грехами страну в бедствие. Что же касается царя-избавителя, якобы обещаемого в будущем то здесь имеется в виду идеальный царь, невидимому бог Ра, царь предвечный, считавшийся прообразом и примером земных властителей. Текст дошел в литературной, а не в школьной рукописи, но и это мало помогает разобраться в трудностях языка, при испорченности папируса.
Мудрец Ипувер говорит пред каким-то царем, названным, как и Сенусерт I в поучении Аменемхета, «владыкой вселенной», длинные речи, т. е. ситуация та же, что и в других памятниках этого времени. Он перечисляет бедствия, обрушившиеся; на Египет и перепутавшие весь порядок, все социальные отношения.
В действительности этот памятник рисует нам картину социальной революции, имевшей место в конце Среднего царства, которая явилась завершением напряженнейшей классовой борьбы предшествующего периода.
|
|
© Historik.ru 2001-2018 При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник: http://historik.ru/ "Книги по истории" |